
Градостроительные конфликты в Ростове-на-Дону (2020–2025)
Градостроительные конфликты в Ростове-на-Дону между 2020 и 2025 годами охватывают различные случаи, включая строительство на площади Ленина, изменение назначения зеленых зон, проектирование автодороги "Западная хорда" и точечную застройку в историческом центре. Основные причины конфликтов включают правовые лазейки, социальные факторы, экологические проблемы и недостаток инфраструктуры. Успешные примеры защиты общественных интересов показывают, что активное участие граждан может привести к изменению планов застройки. Рекомендации для снижения напряженности включают улучшение нормативной базы, прозрачность в коммуникациях, комплексное планирование и участие жителей в принятии решений.
Примеры градостроительных конфликтов
Конфликт вокруг застройки Ростовского ипподрома прошёл классический путь градостроительного конфликта: от латентной фазы и мобилизации сообщества до институционального решения. Под давлением горожан и профессионального сообщества ключевую роль в разрядке сыграл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, публично зафиксировавший отказ от массовой жилой застройки и инициировавший изменение правил землепользования. Это перевело кейс из конфликтной повестки в формат «выигрыш‑выигрыш»: сохранение исторически значимой территории и создание крупной парковой зоны вместо многоэтажных домов.
Дополнительно, развязка соответствует выявленным в независимых исследованиях паттернам успешной деэскалации градостроительных конфликтов: публичный медиатор со стороны региона, правовое закрепление решения и переопределение назначения территории в пользу общественного пространства.
С точки зрения исследований по градостроительным конфликтам, здесь сработали сразу несколько механизмов: легитимный представитель власти выступил медиатором, был найден символический компромисс (общественное пространство как новая ценность), а также использовано «окно возможностей» для правового закрепления решения. В итоге конфликт завершился институционально устойчивым соглашением, где интересы горожан и стратегические ориентиры региона были согласованы.
Строительство на месте фонтана (пл. Ленина). В 2020 году инвестор планировал возвести 22-этажный дом на площади Ленина, фактически на месте демонтированного фонтана. Это вызвало протесты жителей – они требовали сохранить общественное пространство . Под давлением общественности городская администрация отменила выданное разрешение на высотку . Затем рассматривался компромиссный вариант – построить торговый центр высотой 15 м, но горожане настаивали именно на возвращении фонтана. Несмотря на возражения, в 2023 году застройщик начал стройку двухэтажного торгового комплекса, однако летом 2024 года работы приостановил суд по иску «Газпром газораспределение» – выяснилось, что фундамент здания залез в охранную зону газопровода . Окончательно точку в конфликте поставили городские власти совместно с областью: в марте 2025 г. врио губернатора Юрий Слюсарь поддержал идею жителей обустроить на площади новый фонтан и общественную зону . Был проведён конкурс проектов и голосование горожан – выбранный дизайн фонтана сейчас реализуется на благоустраиваемой площади . Этот случай показал, что упорство жителей может привести к смене планов застройки в пользу общественных интересов.
Левобережная роща на ул. Шоссейной. Крупный конфликт развернулся вокруг зелёной зоны на левом берегу Дона. В 2021 году городская Дума изменила назначение участка рощи на ул. Шоссейной, переведя его в зону общественно-жилой застройки и открыв путь к строительству жилья . Это решение возмутило ростовчан: на публичных слушаниях жители дружно выступили против уничтожения рощи, но власти тогда их мнение проигнорировали, заявив, что никакой «рощи» нет, а есть лишь «непонятная растительность» . Компания-застройщик «Дон Сити» лоббировала проект большого ЖК, однако местные жители два года писали обращения и привлекали внимание к проблеме. Лишь в 2025 году ситуация изменилась: новый глава региона создал специальную комиссию для анализа проекта . Комиссия пришла к выводу о категорической неприемлемостивырубки уникальной природной территории . В итоге совет по градостроительству под руководством Юрия Слюсаря отклонил инвестиционный проект «Дон Сити» и постановил сохранить рощу . «Поддерживаю мнение комиссии и горожан: здесь должна остаться роща», – подчеркнул Слюсарь . Территории планируют присвоить статус особо охраняемой природной зоны и разбить там новый парк вместо ЖК . Данный конфликт – пример успешной защиты зелёной зоны силами общественности: хотя первоначально мнение жителей игнорировалось, постоянные обращения привели к вмешательству областных властей и отмене застройки.
Автомагистраль «Западная хорда» и Кумженская роща. Проект строительства новой западной автодороги Ростова (“Западной хорды”) спровоцировал затяжной конфликт между властями и жителями. Согласно генеральному плану 2021 года трассу решили проложить через район станицы Гниловской, что требовало сноса около 40 частных домов и вырубки ~7% Кумженской рощи – уникального лесопарка и части мемориального комплекса ВОВ . Местные жители восприняли эти планы резко негативно: они не хотят покидать дома, где прошли поколения их семей, и возмущены уничтожением природы и тревожным соседством шумной магистрали с военным мемориалом . Активисты создали инициативную группу, направляли обращения во все инстанции вплоть до Президента, а в 2023–2024 гг. подали коллективный иск в областной суд против городской Думы . В иске 80+ ростовчан требуют отменить решения гордумы, разрешившие изъятие участков и вырубку части рощи под дорогу . Они указывают на нарушения: изменения генплана, по их мнению, приняты без учета регионального тер.планирования и вопреки схемам Ростовской области, где хорда должна идти через промышленную зону (улицы Нозадзе и Циолковского) вместо рощи . В процессе участвуют правительство РО и городские структуры, а к истцам присоединились общественные организации (например, Общество охраны памятников) . Пока строительство второй очереди хорды отложено – проект не прошел экспертизу, и жители требуют пересмотреть трассировку . Конфликт продолжается: власти настаивают на важности хорды для города и транзита (дорога замыкает транспортное кольцо, разгружая центр) , а горожане защищают право на благоприятную среду. В суде рассматриваются доводы обеих сторон, в том числе технические (альтернативный маршрут по ж/д ветке оказался на 14 млрд дороже ). Пока компромисса не достигнуто: перспективы изменения проекта остаются неопределенными, но пример показал готовность людей отстаивать свои дома и природу всеми законными методами.
Точечная застройка в историческом центре (Театральный спуск). В конце 2023 года компания ООО «СЗ Эволюция» получила разрешение на строительство 9-этажного жилого комплекса «Купеческий дом “Мануфактура”» у подножия Театрального спуска – в старой части города . Проект из ~47 квартир с подземным паркингом позиционировался как малоквартирный элитный дом . Однако сразу после начала работ (рытья котлована) в марте 2025 г. жильцы окрестных домов забили тревогу: на их старых частных домах пошли трещины, застройщик также повредил старинную подпорную стену склона. По словам местных, улицы и здания “буквально поползли к Дону” . Опасаясь обрушений и нарушений пожарной безопасности в тесном квартале, жители обратились в надзорные органы. Прокуратура Ростовской области оперативно вынесла официальный протест на выдачу разрешения – были выявлены нарушения градостроительных и противопожарных норм . В результате городские власти отозвали ранее выданное разрешение и остановили стройку (отмена разрешения на многоэтажку – редкий прецедент для Ростова ). Застройщик, однако, не смирился: компания подала иск в арбитраж с требованием вернуть разрешение, считая действия мэрии незаконными . Конфликт перешел в плоскость суда: идут разбирательства, назначены экспертизы. Ситуация примечательна тем, что органы прокуратуры и город впервые встали на сторону жителей против точечной застройки в центре – обычно администрация Ростова смотрит сквозь пальцы даже на высотки в нескольких метрах от набережной . Этот случай стал сигналом застройщикам о новом подходе: проекты, угрожающие окружающей застройке и исторической среде, могут быть остановлены по требованию надзора и населения.
Спор вокруг бизнес-центра на ул. Береговой. В 2022 году стало известно о планах построить 12-этажный бизнес-центр по адресу Береговая, 23 – в районе набережной Дона . Проект прошел экспертизу и получил разрешение департамента архитектуры Ростова для предпринимательницы Такуин Гогорян, застройщик – компания «Парус» . Однако жители близлежащих домов выступили против: высотка могла испортить панораму набережной и создать инфраструктурные проблемы. В конце 2022 г. прокуратура внесла протест на разрешение, указав на 8 нарушений в проекте . Среди них – несоблюдение пожарных требований, недостаток парковочных мест и несогласованный перенос теплотрассы, проходящей по участку . Городской департамент архитектуры отменил разрешение, фактически заморозив стройку . Компания «Парус» оспаривает это решение в арбитражном суде, настаивая на проведении независимой строительной экспертизы проекта . В судебном процессе участвуют и третьи лица – соседи-заявители. Интересно, что застройщик пытался найти компромисс: предлагал отремонтировать жильцам их дома и укрепить подпорную стенку, но лишь в случае, если ему дадут достроить бизнес-центр . Жители отказались, посчитав это уловкой и предпочитая вовсе не допустить стройку . Таким образом, конфликт перешел в юридическую фазу. Он высветил пробелы в первоначальной экспертизе проекта и важность гласного обсуждения: изначально разрешение было выдано, хотя проект не учитывал все нормы. Теперь судьба стройки решается судом – подобные споры сигнализируют о необходимости тщательнее фильтровать градостроительные проекты на этапе согласований.
Застройка в роще СКА (Первомайский район). Еще один характерный конфликт разгорелся в 2020 году вокруг участка лесопарка возле стадиона СКА. Предприниматель Кристиан Попеску арендовал 1,8 га земли внутри рощи для строительства многоуровневой парковки . План предполагал вырубку части деревьев. Жители ближайших кварталов вышли на защиту «зелёных лёгких» района, заявив, что не пустят технику в лес: «Мы тут задыхаемся в городе-миллионнике… белки, птицы – и всё это под нож?» – возмущались активисты . Застройщик в ответ заверял, что спилят лишь малую часть деревьев, остальную рощу он трогать не собирается, а парковку разместит на пустыре, где и так стоят автомойка, шиномонтаж и стоянка . Попеску утверждал, что конфликт раздувается недобросовестно: мол, одна из ярых «зеленых» активисток сама владеет коммерческими объектами на этом участке и просто не хочет конкурента . Он назвал ситуацию попыткой выдать коммерческий спор за общественную борьбу и подчеркнул, что его договор аренды законен . Таким образом, стороны обменялись обвинениями – жители подозревали бизнесмена в уничтожении природы ради выгоды, а он их – в прикрытии своих интересов экологическими лозунгами. В итоге скандал получил широкую огласку (репортажи на донском ТВ), но чем завершилась история, решали власти: либо пересмотр условий аренды, либо поиск компромисса с озеленением. Этот случай иллюстрирует типичную проблему точечной застройки в зелёной зоне, где доверие сторон подорвано – жители не верят обещаниям застройщика об «обустройстве» парка, а инвестор сомневается в чистоте мотивов протеста. Без прозрачного диалога подобные противостояния, как правило, заходят в тупик или требуют арбитража со стороны администрации.
Новые микрорайоны и инфраструктура. Градостроительные конфликты возникают не только в центре города, но и на окраинах, где ведется массовая жилищная застройка. Пример – мкр. Суворовский. Этот молодой район стремительно растет, однако социальная и дорожная инфраструктура не поспевает за вводом жилья. Жители Суворовского неоднократно обращались к городским властям с коллективными жалобами: требовали строительства обещанных школ, детсадов, поликлиник и новых дорог . Люди жалуются, что из микрорайона тяжело добраться до центра – одна-две дороги стоят в постоянных пробках, общественного транспорта не хватает . При этом застройщики продолжают возводить новые дома, усугубляя нагрузку. В 2021 году администрация Ростова даже вводила временный мораторий на выдачу разрешений в Суворовском, пригрозив не пускать новых строителей, пока не появятся необходимые объекты инфраструктуры . Конфликт интересов здесь иной: жители – за постепенное развитие, девелоперы – за быстрые продажи, а город балансирует между интересами бизнеса и комфортом населения. Схожие ситуации наблюдаются и в других районах комплексной застройки (например, Вертолётное поле): недостаток дорог, парковок, коммунальных мощностей вызывает недовольство новосёлов. Эти «скрытые» конфликты редко доходят до митингов, но выражаются в массовых жалобах, роликах в соцсетях и т.д. – фактически это протест против качества планирования, когда кварталы строятся раньше, чем создана среда для жизни.
Дополнительно, развязка соответствует выявленным в независимых исследованиях паттернам успешной деэскалации градостроительных конфликтов: публичный медиатор со стороны региона, правовое закрепление решения и переопределение назначения территории в пользу общественного пространства.
С точки зрения исследований по градостроительным конфликтам, здесь сработали сразу несколько механизмов: легитимный представитель власти выступил медиатором, был найден символический компромисс (общественное пространство как новая ценность), а также использовано «окно возможностей» для правового закрепления решения. В итоге конфликт завершился институционально устойчивым соглашением, где интересы горожан и стратегические ориентиры региона были согласованы.
Строительство на месте фонтана (пл. Ленина). В 2020 году инвестор планировал возвести 22-этажный дом на площади Ленина, фактически на месте демонтированного фонтана. Это вызвало протесты жителей – они требовали сохранить общественное пространство . Под давлением общественности городская администрация отменила выданное разрешение на высотку . Затем рассматривался компромиссный вариант – построить торговый центр высотой 15 м, но горожане настаивали именно на возвращении фонтана. Несмотря на возражения, в 2023 году застройщик начал стройку двухэтажного торгового комплекса, однако летом 2024 года работы приостановил суд по иску «Газпром газораспределение» – выяснилось, что фундамент здания залез в охранную зону газопровода . Окончательно точку в конфликте поставили городские власти совместно с областью: в марте 2025 г. врио губернатора Юрий Слюсарь поддержал идею жителей обустроить на площади новый фонтан и общественную зону . Был проведён конкурс проектов и голосование горожан – выбранный дизайн фонтана сейчас реализуется на благоустраиваемой площади . Этот случай показал, что упорство жителей может привести к смене планов застройки в пользу общественных интересов.
Левобережная роща на ул. Шоссейной. Крупный конфликт развернулся вокруг зелёной зоны на левом берегу Дона. В 2021 году городская Дума изменила назначение участка рощи на ул. Шоссейной, переведя его в зону общественно-жилой застройки и открыв путь к строительству жилья . Это решение возмутило ростовчан: на публичных слушаниях жители дружно выступили против уничтожения рощи, но власти тогда их мнение проигнорировали, заявив, что никакой «рощи» нет, а есть лишь «непонятная растительность» . Компания-застройщик «Дон Сити» лоббировала проект большого ЖК, однако местные жители два года писали обращения и привлекали внимание к проблеме. Лишь в 2025 году ситуация изменилась: новый глава региона создал специальную комиссию для анализа проекта . Комиссия пришла к выводу о категорической неприемлемостивырубки уникальной природной территории . В итоге совет по градостроительству под руководством Юрия Слюсаря отклонил инвестиционный проект «Дон Сити» и постановил сохранить рощу . «Поддерживаю мнение комиссии и горожан: здесь должна остаться роща», – подчеркнул Слюсарь . Территории планируют присвоить статус особо охраняемой природной зоны и разбить там новый парк вместо ЖК . Данный конфликт – пример успешной защиты зелёной зоны силами общественности: хотя первоначально мнение жителей игнорировалось, постоянные обращения привели к вмешательству областных властей и отмене застройки.
Автомагистраль «Западная хорда» и Кумженская роща. Проект строительства новой западной автодороги Ростова (“Западной хорды”) спровоцировал затяжной конфликт между властями и жителями. Согласно генеральному плану 2021 года трассу решили проложить через район станицы Гниловской, что требовало сноса около 40 частных домов и вырубки ~7% Кумженской рощи – уникального лесопарка и части мемориального комплекса ВОВ . Местные жители восприняли эти планы резко негативно: они не хотят покидать дома, где прошли поколения их семей, и возмущены уничтожением природы и тревожным соседством шумной магистрали с военным мемориалом . Активисты создали инициативную группу, направляли обращения во все инстанции вплоть до Президента, а в 2023–2024 гг. подали коллективный иск в областной суд против городской Думы . В иске 80+ ростовчан требуют отменить решения гордумы, разрешившие изъятие участков и вырубку части рощи под дорогу . Они указывают на нарушения: изменения генплана, по их мнению, приняты без учета регионального тер.планирования и вопреки схемам Ростовской области, где хорда должна идти через промышленную зону (улицы Нозадзе и Циолковского) вместо рощи . В процессе участвуют правительство РО и городские структуры, а к истцам присоединились общественные организации (например, Общество охраны памятников) . Пока строительство второй очереди хорды отложено – проект не прошел экспертизу, и жители требуют пересмотреть трассировку . Конфликт продолжается: власти настаивают на важности хорды для города и транзита (дорога замыкает транспортное кольцо, разгружая центр) , а горожане защищают право на благоприятную среду. В суде рассматриваются доводы обеих сторон, в том числе технические (альтернативный маршрут по ж/д ветке оказался на 14 млрд дороже ). Пока компромисса не достигнуто: перспективы изменения проекта остаются неопределенными, но пример показал готовность людей отстаивать свои дома и природу всеми законными методами.
Точечная застройка в историческом центре (Театральный спуск). В конце 2023 года компания ООО «СЗ Эволюция» получила разрешение на строительство 9-этажного жилого комплекса «Купеческий дом “Мануфактура”» у подножия Театрального спуска – в старой части города . Проект из ~47 квартир с подземным паркингом позиционировался как малоквартирный элитный дом . Однако сразу после начала работ (рытья котлована) в марте 2025 г. жильцы окрестных домов забили тревогу: на их старых частных домах пошли трещины, застройщик также повредил старинную подпорную стену склона. По словам местных, улицы и здания “буквально поползли к Дону” . Опасаясь обрушений и нарушений пожарной безопасности в тесном квартале, жители обратились в надзорные органы. Прокуратура Ростовской области оперативно вынесла официальный протест на выдачу разрешения – были выявлены нарушения градостроительных и противопожарных норм . В результате городские власти отозвали ранее выданное разрешение и остановили стройку (отмена разрешения на многоэтажку – редкий прецедент для Ростова ). Застройщик, однако, не смирился: компания подала иск в арбитраж с требованием вернуть разрешение, считая действия мэрии незаконными . Конфликт перешел в плоскость суда: идут разбирательства, назначены экспертизы. Ситуация примечательна тем, что органы прокуратуры и город впервые встали на сторону жителей против точечной застройки в центре – обычно администрация Ростова смотрит сквозь пальцы даже на высотки в нескольких метрах от набережной . Этот случай стал сигналом застройщикам о новом подходе: проекты, угрожающие окружающей застройке и исторической среде, могут быть остановлены по требованию надзора и населения.
Спор вокруг бизнес-центра на ул. Береговой. В 2022 году стало известно о планах построить 12-этажный бизнес-центр по адресу Береговая, 23 – в районе набережной Дона . Проект прошел экспертизу и получил разрешение департамента архитектуры Ростова для предпринимательницы Такуин Гогорян, застройщик – компания «Парус» . Однако жители близлежащих домов выступили против: высотка могла испортить панораму набережной и создать инфраструктурные проблемы. В конце 2022 г. прокуратура внесла протест на разрешение, указав на 8 нарушений в проекте . Среди них – несоблюдение пожарных требований, недостаток парковочных мест и несогласованный перенос теплотрассы, проходящей по участку . Городской департамент архитектуры отменил разрешение, фактически заморозив стройку . Компания «Парус» оспаривает это решение в арбитражном суде, настаивая на проведении независимой строительной экспертизы проекта . В судебном процессе участвуют и третьи лица – соседи-заявители. Интересно, что застройщик пытался найти компромисс: предлагал отремонтировать жильцам их дома и укрепить подпорную стенку, но лишь в случае, если ему дадут достроить бизнес-центр . Жители отказались, посчитав это уловкой и предпочитая вовсе не допустить стройку . Таким образом, конфликт перешел в юридическую фазу. Он высветил пробелы в первоначальной экспертизе проекта и важность гласного обсуждения: изначально разрешение было выдано, хотя проект не учитывал все нормы. Теперь судьба стройки решается судом – подобные споры сигнализируют о необходимости тщательнее фильтровать градостроительные проекты на этапе согласований.
Застройка в роще СКА (Первомайский район). Еще один характерный конфликт разгорелся в 2020 году вокруг участка лесопарка возле стадиона СКА. Предприниматель Кристиан Попеску арендовал 1,8 га земли внутри рощи для строительства многоуровневой парковки . План предполагал вырубку части деревьев. Жители ближайших кварталов вышли на защиту «зелёных лёгких» района, заявив, что не пустят технику в лес: «Мы тут задыхаемся в городе-миллионнике… белки, птицы – и всё это под нож?» – возмущались активисты . Застройщик в ответ заверял, что спилят лишь малую часть деревьев, остальную рощу он трогать не собирается, а парковку разместит на пустыре, где и так стоят автомойка, шиномонтаж и стоянка . Попеску утверждал, что конфликт раздувается недобросовестно: мол, одна из ярых «зеленых» активисток сама владеет коммерческими объектами на этом участке и просто не хочет конкурента . Он назвал ситуацию попыткой выдать коммерческий спор за общественную борьбу и подчеркнул, что его договор аренды законен . Таким образом, стороны обменялись обвинениями – жители подозревали бизнесмена в уничтожении природы ради выгоды, а он их – в прикрытии своих интересов экологическими лозунгами. В итоге скандал получил широкую огласку (репортажи на донском ТВ), но чем завершилась история, решали власти: либо пересмотр условий аренды, либо поиск компромисса с озеленением. Этот случай иллюстрирует типичную проблему точечной застройки в зелёной зоне, где доверие сторон подорвано – жители не верят обещаниям застройщика об «обустройстве» парка, а инвестор сомневается в чистоте мотивов протеста. Без прозрачного диалога подобные противостояния, как правило, заходят в тупик или требуют арбитража со стороны администрации.
Новые микрорайоны и инфраструктура. Градостроительные конфликты возникают не только в центре города, но и на окраинах, где ведется массовая жилищная застройка. Пример – мкр. Суворовский. Этот молодой район стремительно растет, однако социальная и дорожная инфраструктура не поспевает за вводом жилья. Жители Суворовского неоднократно обращались к городским властям с коллективными жалобами: требовали строительства обещанных школ, детсадов, поликлиник и новых дорог . Люди жалуются, что из микрорайона тяжело добраться до центра – одна-две дороги стоят в постоянных пробках, общественного транспорта не хватает . При этом застройщики продолжают возводить новые дома, усугубляя нагрузку. В 2021 году администрация Ростова даже вводила временный мораторий на выдачу разрешений в Суворовском, пригрозив не пускать новых строителей, пока не появятся необходимые объекты инфраструктуры . Конфликт интересов здесь иной: жители – за постепенное развитие, девелоперы – за быстрые продажи, а город балансирует между интересами бизнеса и комфортом населения. Схожие ситуации наблюдаются и в других районах комплексной застройки (например, Вертолётное поле): недостаток дорог, парковок, коммунальных мощностей вызывает недовольство новосёлов. Эти «скрытые» конфликты редко доходят до митингов, но выражаются в массовых жалобах, роликах в соцсетях и т.д. – фактически это протест против качества планирования, когда кварталы строятся раньше, чем создана среда для жизни.
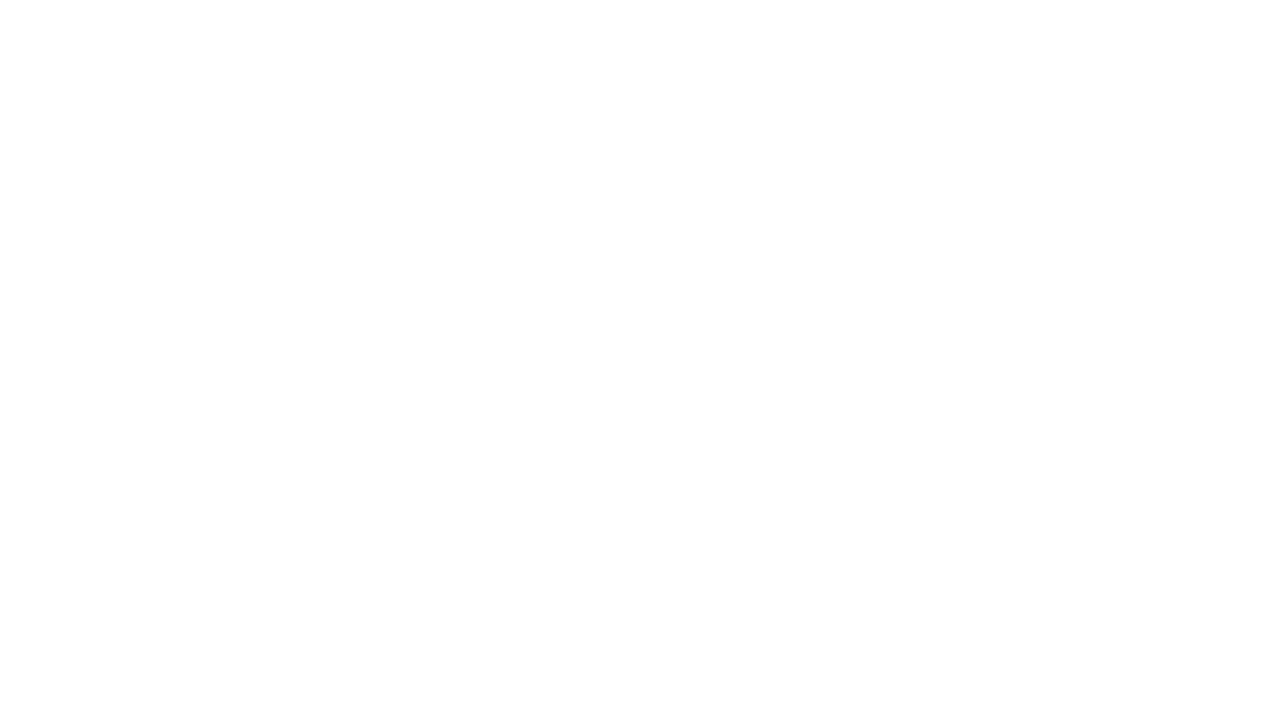
Основные причины конфликтов
Правовые и административные лазейки. Многие конфликты проистекают из несовершенства градостроительных правил и их применения. В Ростове-на-Дону лишь в последние годы начали ужесточать нормативы застройки центра. До 2019 г. в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) допускали т. н. «точечную» уплотнительную застройку, чем пользовались девелоперы. Например, решением гордумы №605 от 21.12.2018 были изменены статусы земель на левобережье – запрещенная прежде рекреационная пойма реки стала пригодна для жилого строительства . Ученые, экологи и общественники возражали, приводили на слушаниях конкретные статьи законов, которые нарушает такая поправка, – но их предпочли не услышать . В итоге застройщики получили «окно возможностей» и начали проекты (как элитный ЖК на левом берегу) на территориях, где это противоречило бы прежним нормам. Аналогично, до марта 2019 в Ростове отсутствовали строгие ограничения на параметры точечной застройки – только после волны скандалов власти ввели лимиты этажности, плотности, парковок и обязательного озеленения при уплотнении кварталов . Но и эти меры оказались запоздалыми: часть компаний успела заранее получить разрешения по старым правилам . Таким образом, пробелы в регулировании (или несвоевременное обновление норм) – важная причина конфликтов. Девелоперы стремятся использовать каждую лазейку Градкодекса, тогда как жители потом оспаривают выданные разрешения через прокуратуру и суд, указывая на нарушения. Пример – ситуация с бизнес-центром на Береговой: проект прошел экспертизу и формально соответствовал букве закона, однако надзор выявил 8 упущенных нарушений норм, которые почему-то не были учтены изначально . Часто корень проблемы – недостаточная прозрачность экспертиз и согласований: когда документы готовит сам инвестор (по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку»), велика вероятность, что рискованные моменты будут обойдены . В итоге жители узнают о них уже постфактум, когда стройка началась.
Социальные факторы: эффект NIMBY и право на город. Практически во всех конфликтах прослеживается синдром «Not In My Backyard» (Нам – не надо такого по соседству). Ростовчане остро реагируют на проекты, которые ухудшают их повседневную жизнь: будь то высотка во дворе, лишающая света и парковки, дорога под окнами, несущая шум и пыль, или торговый центр на месте сквера. Люди справедливо опасаются за свой комфорт, безопасность и ценность жилья. Например, жители старых кварталов на Театральном спуске пережили в 2017 г. крупный пожар и теперь боятся любого строительства, которое может нарушить противопожарные разрывы . В Суворовском родители волнуются, что без школ и дорог район превратится в неудобное «гетто новостроек». Такие настроения подпитывают протесты. Одновременно в этих конфликтах проявляется и стремление горожан реализовать «право на город» – участвовать в решении, каким быть их окружению. Ростовчане не хотят, чтобы решения принимались кулуарно: они требуют публичных обсуждений, учёта мнения местного сообщества. Когда их игнорируют (как в случае с левобережной поймой или рощей на Шоссейной), возникает ощущение несправедливости, отчуждения власти от народа. Это социальное напряжение усиливают примеры точечной застройки, которые жители воспринимают как символы коррупции и пренебрежения ими. Отсюда появляются инициативные группы, самоорганизация во дворах, выходы на митинги – общество заявляет о своих правах на благоприятную среду.
Экологические причины. Сохранение зелёных зон – одна из самых чувствительных тем. Ростов-на-Дону – промышленный южный мегаполис, где на каждого жителя приходится значительно меньше озелененных территорий, чем рекомендуют нормы. Поэтому попытки застройки парков, скверов, берегов рек вызывают острую реакцию. Конфликты вокруг Кумженской рощи, левобережной рощи, сквера СКА – примеры того, как экология становится причиной градостроительных споров. Жители аргументируют протест не только эмоционально (“нам негде гулять, жарко без тени деревьев”), но и рационально: вырубка зеленых массиво́в ухудшает микроклимат, убирает естественный дренаж (важно на пойменных землях), наносит вред биоразнообразию. В случае левобережья учёные указывали, что стройка в пойме Дона грозит изменением локального климата, повышением рисков подтоплений и т. д. . Экодвижения и просто неравнодушные горожане часто объединяются, чтобы отстоять оставшиеся островки природы. Именно экологический аргумент стал решающим в истории с рощей на Шоссейной – комиссия признала уничтожение уникальной природной территории недопустимым . Таким образом, экологические ценности становятся все более значимым фактором: растет понимание, что комфорт города измеряется не только квадратными метрами жилья, но и количеством деревьев. Там, где власти или бизнес игнорируют экологическую экспертизу, неизбежно вспыхивает конфликт с общественностью.
Инфраструктурные и планировочные проблемы. Во многих случаях конфликты подпитываются объективными городскими проблемами: перегруженностью дорог, дефицитом парковок, садиков, коммуникаций. Жильцы протестуют против новых домов не только из эгоизма, но и потому, что существующая инфраструктура не выдерживает. Ростов славится транспортными коллапсами – каждый точечный дом без парковки добавляет хаоса во двор, каждый новый ЖК без дороги создаёт пробки. Протесты в микрорайонах часто сводятся к требованию: «сначала – дороги и соцобъекты, потом стройте дальше». Пример – требование суворовцев синхронизировать жилищное строительство с развитием выездных магистралей . Аналогично, противники «Западной хорды» указывают, что лучше было бы расширять уже существующие трассы в промзоне, чем прокладывать новую через жилой сектор . Инфраструктурный дисбаланс лежит и в основе недовольства многоэтажками на набережной: центр города и так перенаселен, парковочных мест и так нет – а новые высотки усугубляют ситуацию. Власти осознали эту причину: так, в 2020 г. мэрия предложила запретить жилую застройку на главной набережной, аргументируя тем, что сердце города не должно превращаться в спальный район без достаточных дорог и парковок . Городская дума поддержала изменения ПЗЗ, ограничивающие возведение новых многоэтажек вдоль реки – вместо них там должны быть рекреационные и культурно-развлекательные объекты . Хотя эти меры запоздали (некоторые «свечки»-новостройки уже вышли из земли по старым разрешениям), сам факт таких решений говорит о признании инфраструктурного аспекта конфликтов. Кроме того, отсутствие благоустройства при новой застройке (дворов, озеленения, общественных пространств) также ведет к социальной напряженности: люди требуют не просто квадратные метры жилья, но и комфортную городскую среду.
Дефицит коммуникации и доверия. Наконец, немаловажная причина эскалации конфликтов – недостаточная коммуникация между сторонами. Застройщики и чиновники нередко принимают решения кулуарно, ставя жителей перед фактом. Обязательные по закону публичные слушания зачастую превращаются в формальность: объявляются слабо, проводятся в будни утром на окраине, собирают минимум участников. Например, протокол слушаний по стройке во дворе (случай 2015 г.) обнаружил только 2 фамилии жильцов, причём один из них потом заявил, что вообще не присутствовал . Похожая ситуация описана и в случае левобережной поймы: практически все участники слушаний высказались против застройки поймы, приводя аргументы, но их мнения не легли в итоговое решение . Такое игнорирование обратной связи подрывает доверие к власти и стимулирует жителей переходить к протестам и искам. С другой стороны, застройщики тоже испытывают дефицит доверия: любое их обещание (скажем, сохранить часть парка и высадить новые деревья) воспринимается обществом скептически, ибо в прошлом много раз обещания нарушались. В конфликте по роще СКА бизнесмен предлагал благоустройство, но жители ему не поверили . В итоге диалог сменяется взаимными обвинениями, как мы видели: жители клеймят застройщиков «вариантами захватчиков», а те обвиняют активистов в предвзятости или личной выгоде . Локальные власти порой тоже не умеют выстроить коммуникацию: вместо прозрачного обсуждения проектов город публикует сухие отчёты, а на вопросы граждан отвечает бюрократическими отписками. В положительных примерах – наоборот: когда новый глава города или области лично встречается с инициативными группами и признаёт их аргументы, напряжение спадает. Так, Юрий Слюсарь в 2025 г. провёл собрание с жителями по ситуации на пл. Ленина и поддержал их инициативу общественной зоны – после этого конфликт сменился сотрудничеством (совместный выбор проекта фонтана). Стало быть, прозрачность и раннее вовлечение стейкхолдеров могли бы предотвратить многие конфликты, не доводя дело до судов и митингов.
Социальные факторы: эффект NIMBY и право на город. Практически во всех конфликтах прослеживается синдром «Not In My Backyard» (Нам – не надо такого по соседству). Ростовчане остро реагируют на проекты, которые ухудшают их повседневную жизнь: будь то высотка во дворе, лишающая света и парковки, дорога под окнами, несущая шум и пыль, или торговый центр на месте сквера. Люди справедливо опасаются за свой комфорт, безопасность и ценность жилья. Например, жители старых кварталов на Театральном спуске пережили в 2017 г. крупный пожар и теперь боятся любого строительства, которое может нарушить противопожарные разрывы . В Суворовском родители волнуются, что без школ и дорог район превратится в неудобное «гетто новостроек». Такие настроения подпитывают протесты. Одновременно в этих конфликтах проявляется и стремление горожан реализовать «право на город» – участвовать в решении, каким быть их окружению. Ростовчане не хотят, чтобы решения принимались кулуарно: они требуют публичных обсуждений, учёта мнения местного сообщества. Когда их игнорируют (как в случае с левобережной поймой или рощей на Шоссейной), возникает ощущение несправедливости, отчуждения власти от народа. Это социальное напряжение усиливают примеры точечной застройки, которые жители воспринимают как символы коррупции и пренебрежения ими. Отсюда появляются инициативные группы, самоорганизация во дворах, выходы на митинги – общество заявляет о своих правах на благоприятную среду.
Экологические причины. Сохранение зелёных зон – одна из самых чувствительных тем. Ростов-на-Дону – промышленный южный мегаполис, где на каждого жителя приходится значительно меньше озелененных территорий, чем рекомендуют нормы. Поэтому попытки застройки парков, скверов, берегов рек вызывают острую реакцию. Конфликты вокруг Кумженской рощи, левобережной рощи, сквера СКА – примеры того, как экология становится причиной градостроительных споров. Жители аргументируют протест не только эмоционально (“нам негде гулять, жарко без тени деревьев”), но и рационально: вырубка зеленых массиво́в ухудшает микроклимат, убирает естественный дренаж (важно на пойменных землях), наносит вред биоразнообразию. В случае левобережья учёные указывали, что стройка в пойме Дона грозит изменением локального климата, повышением рисков подтоплений и т. д. . Экодвижения и просто неравнодушные горожане часто объединяются, чтобы отстоять оставшиеся островки природы. Именно экологический аргумент стал решающим в истории с рощей на Шоссейной – комиссия признала уничтожение уникальной природной территории недопустимым . Таким образом, экологические ценности становятся все более значимым фактором: растет понимание, что комфорт города измеряется не только квадратными метрами жилья, но и количеством деревьев. Там, где власти или бизнес игнорируют экологическую экспертизу, неизбежно вспыхивает конфликт с общественностью.
Инфраструктурные и планировочные проблемы. Во многих случаях конфликты подпитываются объективными городскими проблемами: перегруженностью дорог, дефицитом парковок, садиков, коммуникаций. Жильцы протестуют против новых домов не только из эгоизма, но и потому, что существующая инфраструктура не выдерживает. Ростов славится транспортными коллапсами – каждый точечный дом без парковки добавляет хаоса во двор, каждый новый ЖК без дороги создаёт пробки. Протесты в микрорайонах часто сводятся к требованию: «сначала – дороги и соцобъекты, потом стройте дальше». Пример – требование суворовцев синхронизировать жилищное строительство с развитием выездных магистралей . Аналогично, противники «Западной хорды» указывают, что лучше было бы расширять уже существующие трассы в промзоне, чем прокладывать новую через жилой сектор . Инфраструктурный дисбаланс лежит и в основе недовольства многоэтажками на набережной: центр города и так перенаселен, парковочных мест и так нет – а новые высотки усугубляют ситуацию. Власти осознали эту причину: так, в 2020 г. мэрия предложила запретить жилую застройку на главной набережной, аргументируя тем, что сердце города не должно превращаться в спальный район без достаточных дорог и парковок . Городская дума поддержала изменения ПЗЗ, ограничивающие возведение новых многоэтажек вдоль реки – вместо них там должны быть рекреационные и культурно-развлекательные объекты . Хотя эти меры запоздали (некоторые «свечки»-новостройки уже вышли из земли по старым разрешениям), сам факт таких решений говорит о признании инфраструктурного аспекта конфликтов. Кроме того, отсутствие благоустройства при новой застройке (дворов, озеленения, общественных пространств) также ведет к социальной напряженности: люди требуют не просто квадратные метры жилья, но и комфортную городскую среду.
Дефицит коммуникации и доверия. Наконец, немаловажная причина эскалации конфликтов – недостаточная коммуникация между сторонами. Застройщики и чиновники нередко принимают решения кулуарно, ставя жителей перед фактом. Обязательные по закону публичные слушания зачастую превращаются в формальность: объявляются слабо, проводятся в будни утром на окраине, собирают минимум участников. Например, протокол слушаний по стройке во дворе (случай 2015 г.) обнаружил только 2 фамилии жильцов, причём один из них потом заявил, что вообще не присутствовал . Похожая ситуация описана и в случае левобережной поймы: практически все участники слушаний высказались против застройки поймы, приводя аргументы, но их мнения не легли в итоговое решение . Такое игнорирование обратной связи подрывает доверие к власти и стимулирует жителей переходить к протестам и искам. С другой стороны, застройщики тоже испытывают дефицит доверия: любое их обещание (скажем, сохранить часть парка и высадить новые деревья) воспринимается обществом скептически, ибо в прошлом много раз обещания нарушались. В конфликте по роще СКА бизнесмен предлагал благоустройство, но жители ему не поверили . В итоге диалог сменяется взаимными обвинениями, как мы видели: жители клеймят застройщиков «вариантами захватчиков», а те обвиняют активистов в предвзятости или личной выгоде . Локальные власти порой тоже не умеют выстроить коммуникацию: вместо прозрачного обсуждения проектов город публикует сухие отчёты, а на вопросы граждан отвечает бюрократическими отписками. В положительных примерах – наоборот: когда новый глава города или области лично встречается с инициативными группами и признаёт их аргументы, напряжение спадает. Так, Юрий Слюсарь в 2025 г. провёл собрание с жителями по ситуации на пл. Ленина и поддержал их инициативу общественной зоны – после этого конфликт сменился сотрудничеством (совместный выбор проекта фонтана). Стало быть, прозрачность и раннее вовлечение стейкхолдеров могли бы предотвратить многие конфликты, не доводя дело до судов и митингов.
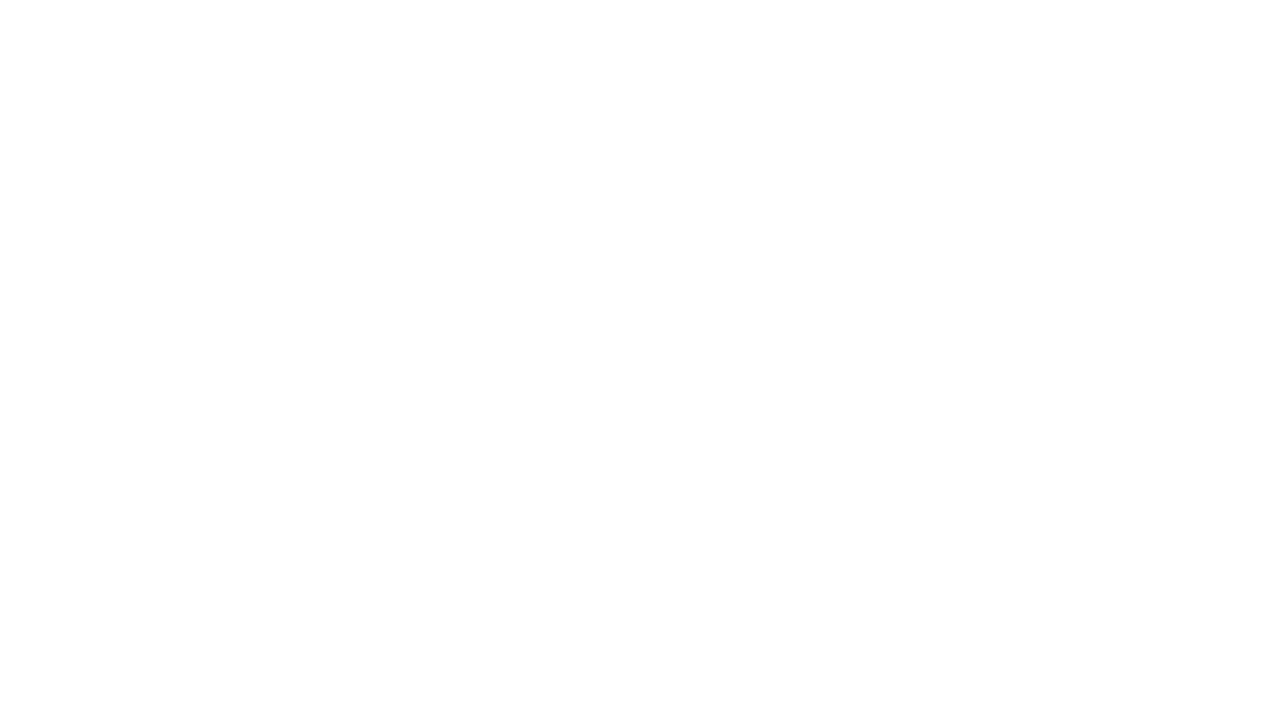
Механизмы разрешения градостроительных конфликтов
Судебные иски и разбирательства. Один из основных инструментов, к которому прибегают и граждане, и застройщики – это суд. Жители объединяются в коллективные иски, чтобы оспорить решения властей или разрешения на стройку. В Ростове-на-Дону подобные прецеденты участились. Например, более 80 горожан подали коллективный иск в областной суд, требуя отменить решения гордумы, разрешившие вырубку части Кумженской рощи под трассу . Они просят признать недействительными поправки в генплан и ПЗЗ, противоречащие, по их мнению, региональным планам и законам . Судебный процесс дает возможность тщательно проверить законность принятых градостроительных решений, и жители пользуются этим правом, привлекая юристов, экспертов, СМИ. С другой стороны, и девелоперы защищают свои инвестиции в суде. Так, ООО «Эволюция» через арбитраж требует восстановить аннулированное разрешение на строительство на Театральном спуске, считая действия мэрии нарушением своих прав . Аналогично, компания «Парус» судится с департаментом архитектуры из-за запрета бизнес-центра на Береговой . В арбитражных спорах застройщики нередко пытаются доказать, что у властей не было оснований отзывать разрешение, и ходатайствуют о независимых экспертизах проекта . Судебный путь – долгий и затратный, но он стал важным механизмом разруливания конфликтов, когда иные способы не сработали. Примечательно, что суды часто учитывают и общественный резонанс: привлекают третьих лиц (например, соседей-домовладельцев в деле по «Парусу» ) или назначают технические экспертизы по жалобам жителей. Таким образом, суд выступает ареной, где сталкиваются аргументы всех сторон – юридические тонкости генпланов, санитарных норм, прав собственников и т.д.
Привлечение прокуратуры и надзорных органов. Прокуратура играет заметную роль в решении градостроительных споров. Надзорные органы по закону контролируют соблюдение градостроительного законодательства, и граждане активно пишут жалобы прокурорам, если считают, что их права нарушены. В Ростове прокуратура не раз вставала на сторону жителей. Характерный механизм – вынесение протеста или представления на незаконное, по мнению надзора, решение. Так, прокуратура области опротестовала разрешение на «Купеческий дом» у Театрального спуска, ссылаясь на нарушения норм (противопожарные разрывы, повреждение исторической стены и пр.) . После этого городская администрация сразу же приостановила стройку . Аналогично, протест прокурора стал причиной отмены разрешения на бизнес-центр у набережной: надзор выявил 8 пунктов несоответствий проектных решений нормам (от парковок до охранных зон коммуникаций) . Этот сигнал мэрия не могла проигнорировать – стройку на Береговой остановили, несмотря на экспертизу, ранее давшую добро . Прокуратура имеет полномочия реагировать и на нарушения порядка проведения публичных слушаний, и на незаконное выделение земли. Периодически проверяются решения муниципалитета: если они противоречат федеральным или региональным актам – их опротестовывают в суде. Важна и роль Ростехнадзора, Госстройнадзора: они могут приостановить стройку при нарушении технических регламентов. Например, случай с газопроводом на пл. Ленина: обнаружив, что фундамент ТЦ залез в охранную зону газовой трубы, специализированная организация через суд добилась остановки работ . Можно сказать, что прокуратура и надзор – союзники жителей в борьбе за законность: там, где удается доказать явные нарушения (отсутствие экспертиз, проведение работ с риском для окружающих домов и т.п.), надзорные органы довольно эффективно вмешиваются. Эффект прокурорских протестов заметен: они заставляют муниципалитет пересматривать выданные разрешения и усиливают переговорные позиции граждан.
Общественные слушания и обсуждения. Формально публичные слушания – главный институт участия населения в градостроительной политике. Каждый проект, требующий отклонения от правил или внесения изменений в генплан/ПЗЗ, должен выноситься на слушания или общественные обсуждения. В Ростове эти процедуры проводятся регулярно, однако их эффективность часто ставится под вопрос. НерРедко слушания превращаются в формальность: минимальная явка, формулировки «одобрить с учетом предложений». Тем не менее, слушания дают гражданам площадку заявить позицию и зафиксировать ее документально. В ряде описанных конфликтов жители старательно пользуются этим механизмом. Пример – слушания по застройке поймы Дона (левобережье): в протоколе записано, что практически все участники высказались против, перечислили конкретные нарушения экологических и градостроительных требований . Пусть тогда эти возражения не остановили проект, но они легли в основу будущих исков и обращений (те же аргументы потом повторялись в суде и прессе). В других случаях слушания показывают спорность проекта – и могут повлиять на решение. Например, в 2025 г. градостроительный совет отклонил проект нового ЖК на выезде из города, сославшись на результаты общественного обсуждения: жители выступили против чрезмерной этажности, указав на инфраструктурные ограничения . Кроме того, в последние годы практикуются общественные обсуждения в онлайн-формате – они расширяют охват участников. Горожане могут оставлять письменные комментарии, предложения к проектам планировки на сайте мэрии . Все поступившие отзывы комиссия должна рассмотреть. Правда, и тут часто замечания отклоняются под предлогом «не по теме» или «необоснованны». Тем не менее, юридически грамотное участие в слушаниях – важный механизм: оно фиксирует несогласие общественности. Если потом дело дойдет до суда или проверки, наличие в протоколе записей о массовых возражениях добавляет веса позиции жителей. Можно вспомнить, что даже небольшая аномалия – двое жильцов на слушаниях большого двора (когда всех остальных не оповестили) – станет аргументом о нарушении процедуры . Поэтому ростовчане все активнее требуют, чтобы слушания проходили честно: в удобное время, с надлежащим оповещением, и чтобы результаты слушаний действительно влияли на решения. В идеале – чтобы власть прислушивалась к конструктивным предложениям (например, смещать трассу, снижать этажность, сохранять часть зелени) на этапе обсуждений, тогда конфликт может быть улажен до начала стройки.
Работа градостроительных советов и комиссий. В 2025 году в Ростовской области усилилась роль градостроительного совета – коллегиального органа при губернаторе и мэрии, куда входят архитекторы, чиновники, депутаты, специалисты. Градсовет призван рассматривать наиболее резонансные или крупные проекты до их утверждения. Первое же заседание обновленного совета Ю. Слюсаря было посвящено «зелёному поясу» Ростова . Именно градсовет в 2025 г. стал ареной разрешения сразу двух серьезных конфликтов: по левобережной роще и по застройке на въезде в город. В случае рощи на Шоссейной совет единогласно запретил застройку, поддержав выводы экологической комиссии и мнение жителей . Глава области официально придал этому статус решения: поручил оформить охранную зону и рекреационный статус территории . В другом эпизоде градсовет отклонил проект 24-этажного ЖК у северного въезда в Ростов, указав на перегруженность дорожной сети – объект отправлен на доработку или поиск нового места . Таким образом, экспертно-совещательные механизмыначинают работать: сложные вопросы выносятся на обсуждение вне рамок одного отдела администрации. Градостроительный совет может найти более взвешенное решение – например, вместо точечной высотки рекомендовать разбить сквер (так было решено сделать в центре Ростова вместо ряда уплотнительных проектов ). Помимо совета, при крупных спорах создаются рабочие группы и комиссии – в них включают представителей общественности, профильных ведомств, инвесторов. Так, по поручению губернатора была создана специальная комиссия для анализа последствий застройки левобережья; выводы комиссии легли в основу решения градсовета . Этот механизм – путь к компромиссу через экспертное заключение. В идеале комиссия проводит независимые исследования (экологические, технические), и ее рекомендациям доверяют обе стороны конфликта. Если комиссия говорит «нельзя строить, риск затопления» – проект отменяют. Если говорит «строить можно при условии X» – жители готовы принять, зная, что условия будут соблюдены под надзором комиссии. В Ростове такая практика только набирает силу, но первые результаты (спасенная роща, отклоненный проблемный ЖК) показывают эффективность.
Инициативы депутатов и органов власти. Еще один механизм – подключение к конфликту избранных представителей (городских депутатов, областных) и использование инструментов власти для компромисса. Депутаты городской Думы Ростова в последние годы выступали с рядом инициатив, отражающих требования жителей. Например, реакцией на волну протестов 2019–2020 гг. стало ужесточение правил точечной застройки (инициатива тогдашнего главы администрации Алексея Логвиненко, поддержанная думой) . Был также рассмотрен и одобрен запрет на новые жилые высотки на набережной Донa – депутаты проголосовали за изменение ПЗЗ, чтобы в историческом центре вместо домов размещались только объекты туризма, культуры, отдыха . Хотя эти меры не решают судьбу уже начатых скандальных строек (их приходится разруливать индивидуально), они закладывают фундамент для предотвращения будущих конфликтов. На уровне областного заксобрания также принимаются законы, влияющие на градостроительную ситуацию – например, о «зеленом поясе» Ростова-на-Дону (создание вокруг города защитных зеленых зон, где запрещена вырубка). В 2025 г. по поручению Слюсаря началось расширение Большого Ростовского зеленого пояса , что, по сути, институционально закрепляет сохранение лесопарков (в том числе Кумженской рощи) и снижает почву для споров вокруг них. Нельзя не упомянуть и еще один административный механизм – моратории и прямые распоряжения. Так, мэрия Ростова в 2021 временно мораторила стройки в Суворовском, дав сигнал застройщикам об обязательности выполнять социальные условия . Губернатор области Василий Голубев публично призывал «покончить с точечным строительством многоэтажек» и сменить подход к развитию городов . Эти заявления транслируют политическую волю, что тоже влияет на разрешение конфликтов: чиновники на местах начинают осторожнее выдавать разрешения, а инвесторы – искать диалог с жителями, чтобы не нарваться на скандал. В ряде случаев власти используют механизм передачи проблемного объекта под свой контроль. Например, после споров вокруг скандального долгостроя или аварийного жилья правительство может выкупить объект или подключить госкорпорацию Дом.РФ, чтобы достроить его с учетом требований безопасности (подобное решение обсуждалось в конфликте ТСЖ «Уют» vs Дом.РФ на берегу Дона, куда вмешался губернатор). В целом, задействование ресурса власти – от депутатских запросов и комиссий до прямых распоряжений – часто служит последним этапом разрешения конфликта, когда компромисс найден и его нужно закрепить юридически.
Привлечение прокуратуры и надзорных органов. Прокуратура играет заметную роль в решении градостроительных споров. Надзорные органы по закону контролируют соблюдение градостроительного законодательства, и граждане активно пишут жалобы прокурорам, если считают, что их права нарушены. В Ростове прокуратура не раз вставала на сторону жителей. Характерный механизм – вынесение протеста или представления на незаконное, по мнению надзора, решение. Так, прокуратура области опротестовала разрешение на «Купеческий дом» у Театрального спуска, ссылаясь на нарушения норм (противопожарные разрывы, повреждение исторической стены и пр.) . После этого городская администрация сразу же приостановила стройку . Аналогично, протест прокурора стал причиной отмены разрешения на бизнес-центр у набережной: надзор выявил 8 пунктов несоответствий проектных решений нормам (от парковок до охранных зон коммуникаций) . Этот сигнал мэрия не могла проигнорировать – стройку на Береговой остановили, несмотря на экспертизу, ранее давшую добро . Прокуратура имеет полномочия реагировать и на нарушения порядка проведения публичных слушаний, и на незаконное выделение земли. Периодически проверяются решения муниципалитета: если они противоречат федеральным или региональным актам – их опротестовывают в суде. Важна и роль Ростехнадзора, Госстройнадзора: они могут приостановить стройку при нарушении технических регламентов. Например, случай с газопроводом на пл. Ленина: обнаружив, что фундамент ТЦ залез в охранную зону газовой трубы, специализированная организация через суд добилась остановки работ . Можно сказать, что прокуратура и надзор – союзники жителей в борьбе за законность: там, где удается доказать явные нарушения (отсутствие экспертиз, проведение работ с риском для окружающих домов и т.п.), надзорные органы довольно эффективно вмешиваются. Эффект прокурорских протестов заметен: они заставляют муниципалитет пересматривать выданные разрешения и усиливают переговорные позиции граждан.
Общественные слушания и обсуждения. Формально публичные слушания – главный институт участия населения в градостроительной политике. Каждый проект, требующий отклонения от правил или внесения изменений в генплан/ПЗЗ, должен выноситься на слушания или общественные обсуждения. В Ростове эти процедуры проводятся регулярно, однако их эффективность часто ставится под вопрос. НерРедко слушания превращаются в формальность: минимальная явка, формулировки «одобрить с учетом предложений». Тем не менее, слушания дают гражданам площадку заявить позицию и зафиксировать ее документально. В ряде описанных конфликтов жители старательно пользуются этим механизмом. Пример – слушания по застройке поймы Дона (левобережье): в протоколе записано, что практически все участники высказались против, перечислили конкретные нарушения экологических и градостроительных требований . Пусть тогда эти возражения не остановили проект, но они легли в основу будущих исков и обращений (те же аргументы потом повторялись в суде и прессе). В других случаях слушания показывают спорность проекта – и могут повлиять на решение. Например, в 2025 г. градостроительный совет отклонил проект нового ЖК на выезде из города, сославшись на результаты общественного обсуждения: жители выступили против чрезмерной этажности, указав на инфраструктурные ограничения . Кроме того, в последние годы практикуются общественные обсуждения в онлайн-формате – они расширяют охват участников. Горожане могут оставлять письменные комментарии, предложения к проектам планировки на сайте мэрии . Все поступившие отзывы комиссия должна рассмотреть. Правда, и тут часто замечания отклоняются под предлогом «не по теме» или «необоснованны». Тем не менее, юридически грамотное участие в слушаниях – важный механизм: оно фиксирует несогласие общественности. Если потом дело дойдет до суда или проверки, наличие в протоколе записей о массовых возражениях добавляет веса позиции жителей. Можно вспомнить, что даже небольшая аномалия – двое жильцов на слушаниях большого двора (когда всех остальных не оповестили) – станет аргументом о нарушении процедуры . Поэтому ростовчане все активнее требуют, чтобы слушания проходили честно: в удобное время, с надлежащим оповещением, и чтобы результаты слушаний действительно влияли на решения. В идеале – чтобы власть прислушивалась к конструктивным предложениям (например, смещать трассу, снижать этажность, сохранять часть зелени) на этапе обсуждений, тогда конфликт может быть улажен до начала стройки.
Работа градостроительных советов и комиссий. В 2025 году в Ростовской области усилилась роль градостроительного совета – коллегиального органа при губернаторе и мэрии, куда входят архитекторы, чиновники, депутаты, специалисты. Градсовет призван рассматривать наиболее резонансные или крупные проекты до их утверждения. Первое же заседание обновленного совета Ю. Слюсаря было посвящено «зелёному поясу» Ростова . Именно градсовет в 2025 г. стал ареной разрешения сразу двух серьезных конфликтов: по левобережной роще и по застройке на въезде в город. В случае рощи на Шоссейной совет единогласно запретил застройку, поддержав выводы экологической комиссии и мнение жителей . Глава области официально придал этому статус решения: поручил оформить охранную зону и рекреационный статус территории . В другом эпизоде градсовет отклонил проект 24-этажного ЖК у северного въезда в Ростов, указав на перегруженность дорожной сети – объект отправлен на доработку или поиск нового места . Таким образом, экспертно-совещательные механизмыначинают работать: сложные вопросы выносятся на обсуждение вне рамок одного отдела администрации. Градостроительный совет может найти более взвешенное решение – например, вместо точечной высотки рекомендовать разбить сквер (так было решено сделать в центре Ростова вместо ряда уплотнительных проектов ). Помимо совета, при крупных спорах создаются рабочие группы и комиссии – в них включают представителей общественности, профильных ведомств, инвесторов. Так, по поручению губернатора была создана специальная комиссия для анализа последствий застройки левобережья; выводы комиссии легли в основу решения градсовета . Этот механизм – путь к компромиссу через экспертное заключение. В идеале комиссия проводит независимые исследования (экологические, технические), и ее рекомендациям доверяют обе стороны конфликта. Если комиссия говорит «нельзя строить, риск затопления» – проект отменяют. Если говорит «строить можно при условии X» – жители готовы принять, зная, что условия будут соблюдены под надзором комиссии. В Ростове такая практика только набирает силу, но первые результаты (спасенная роща, отклоненный проблемный ЖК) показывают эффективность.
Инициативы депутатов и органов власти. Еще один механизм – подключение к конфликту избранных представителей (городских депутатов, областных) и использование инструментов власти для компромисса. Депутаты городской Думы Ростова в последние годы выступали с рядом инициатив, отражающих требования жителей. Например, реакцией на волну протестов 2019–2020 гг. стало ужесточение правил точечной застройки (инициатива тогдашнего главы администрации Алексея Логвиненко, поддержанная думой) . Был также рассмотрен и одобрен запрет на новые жилые высотки на набережной Донa – депутаты проголосовали за изменение ПЗЗ, чтобы в историческом центре вместо домов размещались только объекты туризма, культуры, отдыха . Хотя эти меры не решают судьбу уже начатых скандальных строек (их приходится разруливать индивидуально), они закладывают фундамент для предотвращения будущих конфликтов. На уровне областного заксобрания также принимаются законы, влияющие на градостроительную ситуацию – например, о «зеленом поясе» Ростова-на-Дону (создание вокруг города защитных зеленых зон, где запрещена вырубка). В 2025 г. по поручению Слюсаря началось расширение Большого Ростовского зеленого пояса , что, по сути, институционально закрепляет сохранение лесопарков (в том числе Кумженской рощи) и снижает почву для споров вокруг них. Нельзя не упомянуть и еще один административный механизм – моратории и прямые распоряжения. Так, мэрия Ростова в 2021 временно мораторила стройки в Суворовском, дав сигнал застройщикам об обязательности выполнять социальные условия . Губернатор области Василий Голубев публично призывал «покончить с точечным строительством многоэтажек» и сменить подход к развитию городов . Эти заявления транслируют политическую волю, что тоже влияет на разрешение конфликтов: чиновники на местах начинают осторожнее выдавать разрешения, а инвесторы – искать диалог с жителями, чтобы не нарваться на скандал. В ряде случаев власти используют механизм передачи проблемного объекта под свой контроль. Например, после споров вокруг скандального долгостроя или аварийного жилья правительство может выкупить объект или подключить госкорпорацию Дом.РФ, чтобы достроить его с учетом требований безопасности (подобное решение обсуждалось в конфликте ТСЖ «Уют» vs Дом.РФ на берегу Дона, куда вмешался губернатор). В целом, задействование ресурса власти – от депутатских запросов и комиссий до прямых распоряжений – часто служит последним этапом разрешения конфликта, когда компромисс найден и его нужно закрепить юридически.
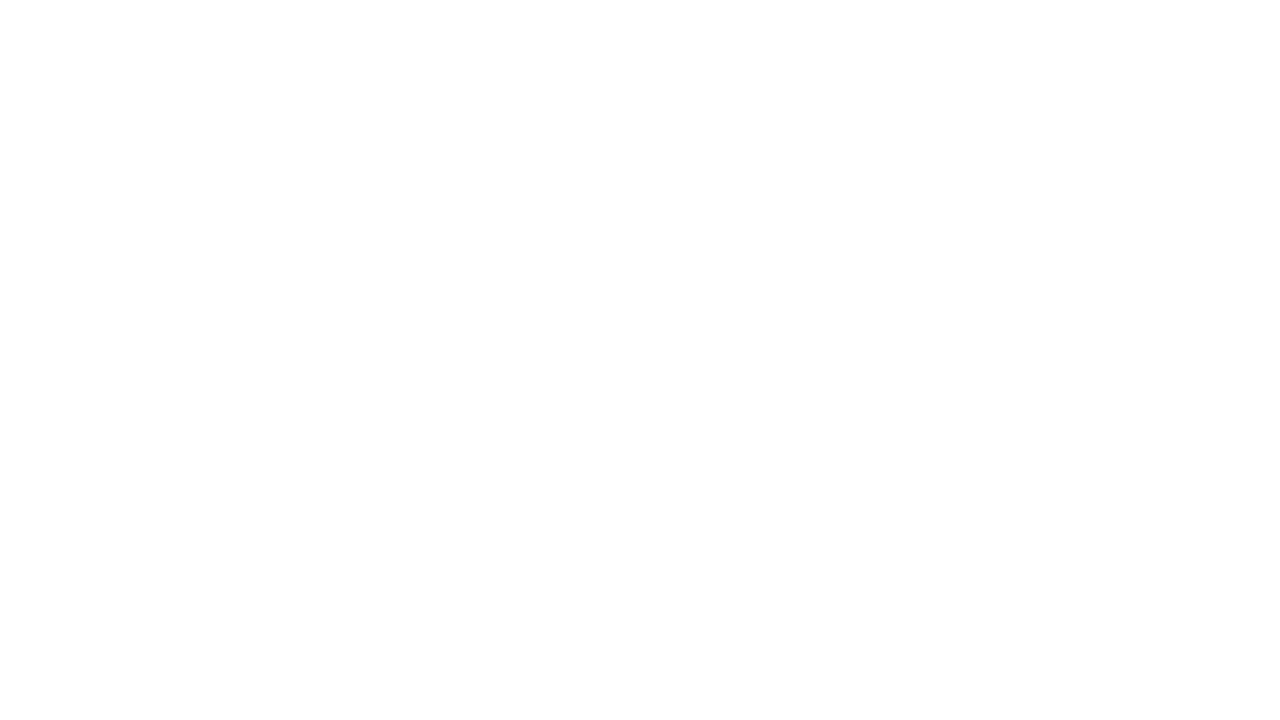
Компромиссы и пути согласования интересов
Пересмотр или отмена спорных проектов. Наиболее радикальный, но иногда необходимый компромисс – полное прекращение изначально планируемой застройки. Как показывают примеры, в Ростове несколько конфликтов решили именно так: скандальный проект отменялся, а вместо него появлялось другое решение, устраивающее жителей. Левобережная роща – вместо жилого комплекса будет разбит парк и рекреационная зона . Площадь Ленина – вместо многоэтажки восстановят городской фонтан по выбранному народом проекту . Эти решения можно считать компромиссом в пользу горожан – власть и инвесторы отступили, признав приоритет общественных интересов (экологии, исторического облика). Однако подобный исход нередко требует вмешательства «третьей силы» – например, губернатора или прокурора, поскольку добровольно застройщик редко откажется от прибыли. В ряде случаев компромисс достигается в форме изменения проекта: снижения этажности, переноса объекта чуть в сторону, сохранения части зелени. Например, по ситуации с Западной хордой жители предлагают изменить трассу – пустить дорогу вдоль ж/д путей вместо жилого сектора . Если власти примут этот вариант, это станет компромиссом: хорду построят (город получит инфраструктуру), но дома станичников Гниловских останутся целы и роща уцелеет. Пока этот компромисс под вопросом из-за удорожания проекта , но сам факт, что граждане выдвигают альтернативные схемы, – показатель стремления к решению, а не к тупому протесту. В иных историях инвесторы сами идут на частичные уступки, желая успокоить население: обещают оборудовать дополнительный сквер, построить садик, подземную парковку для соседних домов и т.д. В конфликте на Береговой компания «Парус» предлагала отремонтировать близлежащие дома и подпорную стену, благоустроить территорию – но с условием, что ей позволят построить центр . Жители на это не согласились, однако, будь предложение сделано раньше и без условий, возможно, компромисс был бы реален. Таким образом, компромиссное проектирование – один из путей: адаптировать застройку так, чтобы минимизировать вред для местных. Для этого, конечно, нужно вовлекать жителей и экспертов на ранней стадии (см. ниже про участническое проектирование).
Участвующее проектирование и диалоговые площадки. Гораздо эффективнее конфликтам не доводить до точки кипения, а снимать разногласия на этапе планирования. В мировой практике применяют механизмы participatory design – привлечение жителей к обсуждению и разработке проектов, которые затрагивают их район. В Ростове элементы такого подхода начали применяться. Показательный пример – история с новым фонтаном на площади Ленина: после отмены неблагополучных стройпланов мэрия доверила сам дизайн общественной зоны выбору горожан . Были представлены несколько вариантов благоустройства, и ростовчане голосованием определили победителя, который сейчас реализуется. Это создает у жителей чувство причастности – объект станет «их», а не навязанным чужаками. Подобный же подход можно было бы применять и в других случаях: например, по застройке парка или сквера собирать совет из местных жителей, архитекторов, экологов для совместного поиска решений. Пока это скорее мечты – обычно проекты появляются сверху, а население ставится перед фактом. Но некоторые шаги есть: градсовет при губернаторе приглашает известных урбанистов, блогеров (например, Ростовский паблик «Урбанистика») к обсуждению трассировки дорог, развития зеленого пояса . Голос экспертного сообщества, близкого к гражданским активистам, звучит все громче, и власть вынуждена его учитывать. Также депутаты и чиновники стали чаще выезжать на места конфликтов для личных встреч. Такой диалог (пусть даже после скандала) помогает снять эмоциональную напряженность и найти компромисс. Зачастую банальное человеческое обсуждение выявляет, что цели не так уж непримиримы: жители согласны на развитие, но просят учета их условий (например, «сохраните половину деревьев – вторую половину стройте»), а застройщик готов что-то подвинуть, лишь бы реализовать проект. В дальнейшем можно ожидать внедрения практики медиации в градостроительных спорах: независимые посредники (урбанисты, общественные деятели) могли бы модерировать обсуждения между конфликтующими сторонами и вырабатывать компромиссные варианты. Это особенно актуально для конфликтов «двор против застройщика»: где-то возможно согласовать уменьшенную высоту здания, где-то – финансирование нового playground взамен уплотнения двора. Без диалога такие варианты не всплывают, стороны видят ситуацию в черно-белом свете. Там же, где удалось наладить общение (пример – власти наконец-то признали требования суворовцев и заложили в бюджет новую развязку, пообещав не строить новых домов до её открытия ), конфликт постепенно стихает, сменяясь совместной работой над решением проблемы.
Компромиссы через компенсации. Еще один способ урегулирования – компенсационные меры для пострадавших сторон. Если проект жизненно необходим городу, но причиняет ущерб конкретным жителям, можно договариваться об адекватной компенсации. В случае «Западной хорды» власти заявили, что все чьи дома пойдут под снос, получат рыночную стоимость жилья или равноценные новые квартиры . Также обсуждаются варианты, как увековечить память о сносимом историческом районе (например, создать памятный знак станице Гниловской). Конечно, деньги не всегда утешают, но прозрачность и щедрость компенсаций способна снизить накал. Если люди видят, что их не «выгоняют», а переселяют в действительно равнозначные условия – часть протестующих смиряется. В пример можно привести программы расселения аварийных домов: они тоже проходят не гладко (кто-то не согласен с оценкой стоимости квартиры, как было на Кривошлыковском переулке), но когда власти дорабатывают индивидуально с каждой семьёй, конфликт сглаживается. В вышеупомянутом случае аварийной хрущёвки власти после суда пошли на уступки – оценку жилья скорректировали, ипотечникам предложили отдельную схему погашения, никого насильно не выселяли . Эти шаги убедили большую часть жильцов переехать, хотя изначально они были настроены крайне непримиримо. Таким образом, материальный компромисс – важная часть урегулирования: либо инвестиции в объект инфраструктуры, которого требуют жители (садик, дорогу), либо выплаты и альтернативное жилье тем, кого нельзя уберечь от последствий стройки. Застройщики в идеале тоже должны участвовать – социальная ответственность бизнеса. В ряде регионов практикуются соглашения: инвестор строит дом, но обязуется обустроить рядом сквер и отдать городу определенное число квартир под переселение аварийщиков. Если бы подобные модели стали нормой, многие конфликты не возникали бы вовсе, ведь жители видели бы прямую выгоду от нового строительства, а не только ущерб.
В целом, анализ показывает, что компромисс чаще достигается, когда все стейкхолдеры вовлечены в поиск решения: жители, власть, девелоперы, эксперты. Односторонние решения приводят к противостоянию, а диалог – к взаимоприемлемым развязкам, будь то изменение проекта, компенсации или отказ от затеи.
Участвующее проектирование и диалоговые площадки. Гораздо эффективнее конфликтам не доводить до точки кипения, а снимать разногласия на этапе планирования. В мировой практике применяют механизмы participatory design – привлечение жителей к обсуждению и разработке проектов, которые затрагивают их район. В Ростове элементы такого подхода начали применяться. Показательный пример – история с новым фонтаном на площади Ленина: после отмены неблагополучных стройпланов мэрия доверила сам дизайн общественной зоны выбору горожан . Были представлены несколько вариантов благоустройства, и ростовчане голосованием определили победителя, который сейчас реализуется. Это создает у жителей чувство причастности – объект станет «их», а не навязанным чужаками. Подобный же подход можно было бы применять и в других случаях: например, по застройке парка или сквера собирать совет из местных жителей, архитекторов, экологов для совместного поиска решений. Пока это скорее мечты – обычно проекты появляются сверху, а население ставится перед фактом. Но некоторые шаги есть: градсовет при губернаторе приглашает известных урбанистов, блогеров (например, Ростовский паблик «Урбанистика») к обсуждению трассировки дорог, развития зеленого пояса . Голос экспертного сообщества, близкого к гражданским активистам, звучит все громче, и власть вынуждена его учитывать. Также депутаты и чиновники стали чаще выезжать на места конфликтов для личных встреч. Такой диалог (пусть даже после скандала) помогает снять эмоциональную напряженность и найти компромисс. Зачастую банальное человеческое обсуждение выявляет, что цели не так уж непримиримы: жители согласны на развитие, но просят учета их условий (например, «сохраните половину деревьев – вторую половину стройте»), а застройщик готов что-то подвинуть, лишь бы реализовать проект. В дальнейшем можно ожидать внедрения практики медиации в градостроительных спорах: независимые посредники (урбанисты, общественные деятели) могли бы модерировать обсуждения между конфликтующими сторонами и вырабатывать компромиссные варианты. Это особенно актуально для конфликтов «двор против застройщика»: где-то возможно согласовать уменьшенную высоту здания, где-то – финансирование нового playground взамен уплотнения двора. Без диалога такие варианты не всплывают, стороны видят ситуацию в черно-белом свете. Там же, где удалось наладить общение (пример – власти наконец-то признали требования суворовцев и заложили в бюджет новую развязку, пообещав не строить новых домов до её открытия ), конфликт постепенно стихает, сменяясь совместной работой над решением проблемы.
Компромиссы через компенсации. Еще один способ урегулирования – компенсационные меры для пострадавших сторон. Если проект жизненно необходим городу, но причиняет ущерб конкретным жителям, можно договариваться об адекватной компенсации. В случае «Западной хорды» власти заявили, что все чьи дома пойдут под снос, получат рыночную стоимость жилья или равноценные новые квартиры . Также обсуждаются варианты, как увековечить память о сносимом историческом районе (например, создать памятный знак станице Гниловской). Конечно, деньги не всегда утешают, но прозрачность и щедрость компенсаций способна снизить накал. Если люди видят, что их не «выгоняют», а переселяют в действительно равнозначные условия – часть протестующих смиряется. В пример можно привести программы расселения аварийных домов: они тоже проходят не гладко (кто-то не согласен с оценкой стоимости квартиры, как было на Кривошлыковском переулке), но когда власти дорабатывают индивидуально с каждой семьёй, конфликт сглаживается. В вышеупомянутом случае аварийной хрущёвки власти после суда пошли на уступки – оценку жилья скорректировали, ипотечникам предложили отдельную схему погашения, никого насильно не выселяли . Эти шаги убедили большую часть жильцов переехать, хотя изначально они были настроены крайне непримиримо. Таким образом, материальный компромисс – важная часть урегулирования: либо инвестиции в объект инфраструктуры, которого требуют жители (садик, дорогу), либо выплаты и альтернативное жилье тем, кого нельзя уберечь от последствий стройки. Застройщики в идеале тоже должны участвовать – социальная ответственность бизнеса. В ряде регионов практикуются соглашения: инвестор строит дом, но обязуется обустроить рядом сквер и отдать городу определенное число квартир под переселение аварийщиков. Если бы подобные модели стали нормой, многие конфликты не возникали бы вовсе, ведь жители видели бы прямую выгоду от нового строительства, а не только ущерб.
В целом, анализ показывает, что компромисс чаще достигается, когда все стейкхолдеры вовлечены в поиск решения: жители, власть, девелоперы, эксперты. Односторонние решения приводят к противостоянию, а диалог – к взаимоприемлемым развязкам, будь то изменение проекта, компенсации или отказ от затеи.
Рекомендации для снижения социальной напряжённости
1. Совершенствование нормативной базы. Необходимы упреждающие законодательные меры, не допускающие заведомо конфликтных проектов. Городским властям следует своевременно обновлять Генеральный план и Правила застройки с учётом общественных ценностей: запрещать строительство в ключевых рекреационных зонах, ограничивать уплотнение исторических кварталов. Ростову уже сделаны шаги – введен запрет на жилые высотки на набережной и ужесточены требования к уплотнительной застройке . В дальнейшем стоит расширить перечень охраняемых территорий (создать новые скверы, парки с официальным статусом), где строительство будет невозможным. Кроме того, нормативы должны обязывать застройщика одновременно развивать инфраструктуру: например, выдача разрешения на ЖК – только при наличии проектов дорог, школ для этого микрорайона. Закрепление таких требований в правовых актах снизит число ситуаций, когда дома построены, а дороги «когда-нибудь потом». Также важно устранить лазейки: сделать процедуру публичных слушаний более значимой юридически, чтобы игнорировать итоги обсуждений было нельзя. Возможно, внести изменения в федеральное законодательство, придав результатам публичных слушаний обязательный характер (при определенной явке и численности голосов «против»). В общем, профилактика конфликтов на уровне закона – первый шаг: чем понятнее и жестче правила игры, тем меньше пространства для злоупотреблений и разночтений, ведущих к скандалам.
2. Прозрачность и коммуникационная стратегия. Властям города и застройщикам стоит выстроить системный диалог с жителями по всем значимым проектам. Рекомендуется заблаговременно информировать население о планах – не только через официальные сайты, но и через дворовые собрания, соцсети, объявления в подъездах. В каждом районе целесообразно создать общественный совет или чат, где чиновники и инвесторы представят проекты и выслушают обратную связь. Главное – перейти от принципа «увидят стройку – потом спросим» к принципу «спросим – потом решим, начинать ли стройку». Также городу следует обеспечивать реальные, а не формальные, публичные слушания: выбирать для них удобное время (вечер, выходной), доступные площадки, обеспечивать онлайн-трансляции и сбор мнений через интернет. Желательно привлекать независимых модераторов, чтобы люди чувствовали себя участниками процесса, а не статистами. Повышение доверия – ключевой фактор: если граждане увидят, что их доводы действительно анализируются (например, мэрия публикует отчет: «по итогам обсуждений проект доработан: уменьшена этажность, добавлен детсад»), то и накал протестных настроений снизится. Для застройщиков прозрачность тоже выгодна: они могут заранее учесть пожелания и снизить риск срыва проекта. Например, узнав на стадии обсуждения, что район против 25 этажей, лучше сразу пересмотреть план до 15 этажей, чем потом сталкиваться с отзывом разрешения. В целом, стратегия открытых коммуникаций – через СМИ, соцсети, сходы граждан – позволит перевести градостроительные конфликты из плоскости эмоциональных митингов в плоскость конструктивных переговоров.
3. Комплексное планирование и инфраструктурный баланс. Город должен стремиться к опережающему развитию инфраструктуры там, где планируется активная застройка. Рекомендуется внедрять принцип: нет новых домов – без новых дорог, школ, поликлиник. В контрактных условиях с девелоперами можно прописывать их участие в создании социальных объектов (например, по схеме «за каждые 100 тыс. кв. м жилья – детсад и 1 км дороги»). Это снизит обоснованные претензии жителей к строителям. Также важно развивать транспортную сеть: строить развязки, дублирующие магистрали, общественный транспорт до новых кварталов. Когда люди видят, что вместе с домами появляются парковки, маршруты автобусов, новые выезды – они спокойнее относятся к заселению соседних пустырей. В противном случае любой новый ЖК воспринимается как угроза усугубить хаос. Поэтому – планирование «вперёд»: например, запустить заранее строительство школы, даже если вокруг нее пока пустырь, зная, что через год начнется жилой проект. Инструменты здесь – госпрограммы, соглашения с застройщиками, целевое финансирование. Ростову, в частности, критично решить проблему дворовых территорий при точечной застройке: если уплотнение неизбежно, город обязан параллельно благоустроить двор (новая детплощадка, озеленение крыши паркинга и т.д.), чтобы компенсировать жителям уплотнение. Такой системный подход уменьшит ощущение, что интересы жителей приносятся в жертву прибыли – наоборот, они увидят улучшения (пусть и наряду с новыми домами).
4. Участие горожан в принятии решений (“партисипаторное” управление). Следует активно внедрять модели участвующего проектирования. Это может быть создание при администрации постоянно действующего общественного градостроительного совета с включением представителей районных инициативных групп, экологов, историков. Все крупные проекты стоит рассматривать на этом совете – даже если по закону не требуется. Заключение такого совета (консультативное) покажет, где могут быть конфликты, и как их заранее смягчить. Полезно проводить общественные городские референдумы или опросы по самым резонансным вопросам. Например, вынести на онлайн-голосование вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение парка на бульвар?» – и если большинство против, поискать другие решения. Конечно, прямая демократия не всегда применима, но точечно – вполне. Кроме того, нужно развивать культуру медиатора в спорных случаях. Назначать ответственными за коммуникацию по проекту конкретных лиц (например, в каждом районе – заместителя главы по связям с общественностью, своего рода «омбудсмена» по градостроительным вопросам). Этот человек должен быть на связи с жителями, проводить разъяснения, собирать предложения, доносить их до проектировщиков. Когда у людей появляется ощущение «нас слышат, с нами советуются», градостроительная политика перестает быть полем битвы. В конце концов, цель – не заморозить развитие города, а сделать его сбалансированным. Для этого жители – не помеха, а ресурс: они лучше знают местные особенности и могут подсказать рациональные идеи (как, например, инициативная группа Гниловской предложила альтернативный маршрут хорды – возможно, властям стоит его детально рассчитать на перспективу).
5. Повышение ответственности и открытости бизнеса. Девелоперам, работающим в Ростове, целесообразно изменить отношение к общественному мнению – не как к препятствию, а как к фактору успеха проекта. Репутация в наше время дорого стоит. Поэтому рекомендуем строительным компаниям добровольно практиковать общественные обсуждения своих проектов на ранних стадиях: проводить презентации для соседних домов, публиковать визуализации, отвечать на вопросы. Если сразу выяснится, что жильцов не устраивает этажность – может, лучше спроектировать ниже, чем потом терять время из-за судебных запретов. Также стоит внедрять социальную компенсацию: например, сносишь старый дом – помоги его жильцам с переездом и выплатами сверх положенного. Или вырубаешь 20 деревьев – посади 200 новых и ухаживай за ними несколько лет. Такие шаги, даже если не обязательны по закону, создадут кредит доверия. Хороший тон – заключать соглашения с местным сообществом: документ, где застройщик берет на себя конкретные обязательства (школа, сквер, парковка для соседей), а жители обязуются не чинить препятствий стройке при выполнении условий. Подобные соглашения практикуются за рубежом (Community Benefits Agreement) и могли бы прижиться у нас. Если бизнес покажет готовность вкладываться в качество городской среды, а не только продавать метры, число непримиримых противников проектов снизится.
6. Открытые данные и независимая экспертиза. В спорных вопросах часто не хватает доверия к экспертизам– жители сомневаются в заключениях, оплаченных застройщиком. Решение – сделать экспертизы более публичными и, по возможности, независимыми. Региону стоит создать публичный реестр экспертиз по значимым стройкам: выкладывать в открытый доступ основные выводы экологической, историко-культурной, технической экспертиз. Также целесообразно привлекать сторонних специалистов (например, университетских ученых, экспертов РАН) к оценке потенциального ущерба. Когда, к примеру, утверждались изменения в ПЗЗ по левобережью, мнения ученых о вреде пойменной застройки были проигнорированы . На будущее надо встроить такой механизм: нет подписи эколога – нет решения. Если бы в 2018 году депутаты услышали специалистов, не было бы и многолетнего конфликта за левый берег. Поэтому – экспертный фильтр: особенно по объектам, затрагивающим историческую среду или природу, должен быть обязательный положительный вывод авторитетной независимой структуры. А все материалы (где планируется вырубка, какой будет теневой конус от здания и т.д.) должны предъявляться общественности. Прозрачность данных обезоруживает слухи и домыслы. Например, зная точно, сколько деревьев уберут и сколько высадят взамен, люди могут смириться, если баланс положительный и видят план компенсации. Если же данных нет, зарождаются самые худшие предположения. Таким образом, открытость и опора на науку снизят градус недоверия.
В заключение, градостроительные конфликты – неизбежное явление для развивающегося города, где сталкиваются интересы развития, общества и среды. Но правильная политика способна перевести конфликты в конструктивное русло. Ростову-на-Дону, учитывая опыт последних лет, важно продолжать курс на более сбалансированное, «слышащее» городское управление: вовремя обновлять правила, честно разговаривать с жителями, привлекать экспертизу и не бояться корректировать планы ради общего блага. Тогда и социальная напряжённость будет снижаться, уступая место партнерству горожан, власти и бизнеса в деле создания комфортной городской среды.
2. Прозрачность и коммуникационная стратегия. Властям города и застройщикам стоит выстроить системный диалог с жителями по всем значимым проектам. Рекомендуется заблаговременно информировать население о планах – не только через официальные сайты, но и через дворовые собрания, соцсети, объявления в подъездах. В каждом районе целесообразно создать общественный совет или чат, где чиновники и инвесторы представят проекты и выслушают обратную связь. Главное – перейти от принципа «увидят стройку – потом спросим» к принципу «спросим – потом решим, начинать ли стройку». Также городу следует обеспечивать реальные, а не формальные, публичные слушания: выбирать для них удобное время (вечер, выходной), доступные площадки, обеспечивать онлайн-трансляции и сбор мнений через интернет. Желательно привлекать независимых модераторов, чтобы люди чувствовали себя участниками процесса, а не статистами. Повышение доверия – ключевой фактор: если граждане увидят, что их доводы действительно анализируются (например, мэрия публикует отчет: «по итогам обсуждений проект доработан: уменьшена этажность, добавлен детсад»), то и накал протестных настроений снизится. Для застройщиков прозрачность тоже выгодна: они могут заранее учесть пожелания и снизить риск срыва проекта. Например, узнав на стадии обсуждения, что район против 25 этажей, лучше сразу пересмотреть план до 15 этажей, чем потом сталкиваться с отзывом разрешения. В целом, стратегия открытых коммуникаций – через СМИ, соцсети, сходы граждан – позволит перевести градостроительные конфликты из плоскости эмоциональных митингов в плоскость конструктивных переговоров.
3. Комплексное планирование и инфраструктурный баланс. Город должен стремиться к опережающему развитию инфраструктуры там, где планируется активная застройка. Рекомендуется внедрять принцип: нет новых домов – без новых дорог, школ, поликлиник. В контрактных условиях с девелоперами можно прописывать их участие в создании социальных объектов (например, по схеме «за каждые 100 тыс. кв. м жилья – детсад и 1 км дороги»). Это снизит обоснованные претензии жителей к строителям. Также важно развивать транспортную сеть: строить развязки, дублирующие магистрали, общественный транспорт до новых кварталов. Когда люди видят, что вместе с домами появляются парковки, маршруты автобусов, новые выезды – они спокойнее относятся к заселению соседних пустырей. В противном случае любой новый ЖК воспринимается как угроза усугубить хаос. Поэтому – планирование «вперёд»: например, запустить заранее строительство школы, даже если вокруг нее пока пустырь, зная, что через год начнется жилой проект. Инструменты здесь – госпрограммы, соглашения с застройщиками, целевое финансирование. Ростову, в частности, критично решить проблему дворовых территорий при точечной застройке: если уплотнение неизбежно, город обязан параллельно благоустроить двор (новая детплощадка, озеленение крыши паркинга и т.д.), чтобы компенсировать жителям уплотнение. Такой системный подход уменьшит ощущение, что интересы жителей приносятся в жертву прибыли – наоборот, они увидят улучшения (пусть и наряду с новыми домами).
4. Участие горожан в принятии решений (“партисипаторное” управление). Следует активно внедрять модели участвующего проектирования. Это может быть создание при администрации постоянно действующего общественного градостроительного совета с включением представителей районных инициативных групп, экологов, историков. Все крупные проекты стоит рассматривать на этом совете – даже если по закону не требуется. Заключение такого совета (консультативное) покажет, где могут быть конфликты, и как их заранее смягчить. Полезно проводить общественные городские референдумы или опросы по самым резонансным вопросам. Например, вынести на онлайн-голосование вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение парка на бульвар?» – и если большинство против, поискать другие решения. Конечно, прямая демократия не всегда применима, но точечно – вполне. Кроме того, нужно развивать культуру медиатора в спорных случаях. Назначать ответственными за коммуникацию по проекту конкретных лиц (например, в каждом районе – заместителя главы по связям с общественностью, своего рода «омбудсмена» по градостроительным вопросам). Этот человек должен быть на связи с жителями, проводить разъяснения, собирать предложения, доносить их до проектировщиков. Когда у людей появляется ощущение «нас слышат, с нами советуются», градостроительная политика перестает быть полем битвы. В конце концов, цель – не заморозить развитие города, а сделать его сбалансированным. Для этого жители – не помеха, а ресурс: они лучше знают местные особенности и могут подсказать рациональные идеи (как, например, инициативная группа Гниловской предложила альтернативный маршрут хорды – возможно, властям стоит его детально рассчитать на перспективу).
5. Повышение ответственности и открытости бизнеса. Девелоперам, работающим в Ростове, целесообразно изменить отношение к общественному мнению – не как к препятствию, а как к фактору успеха проекта. Репутация в наше время дорого стоит. Поэтому рекомендуем строительным компаниям добровольно практиковать общественные обсуждения своих проектов на ранних стадиях: проводить презентации для соседних домов, публиковать визуализации, отвечать на вопросы. Если сразу выяснится, что жильцов не устраивает этажность – может, лучше спроектировать ниже, чем потом терять время из-за судебных запретов. Также стоит внедрять социальную компенсацию: например, сносишь старый дом – помоги его жильцам с переездом и выплатами сверх положенного. Или вырубаешь 20 деревьев – посади 200 новых и ухаживай за ними несколько лет. Такие шаги, даже если не обязательны по закону, создадут кредит доверия. Хороший тон – заключать соглашения с местным сообществом: документ, где застройщик берет на себя конкретные обязательства (школа, сквер, парковка для соседей), а жители обязуются не чинить препятствий стройке при выполнении условий. Подобные соглашения практикуются за рубежом (Community Benefits Agreement) и могли бы прижиться у нас. Если бизнес покажет готовность вкладываться в качество городской среды, а не только продавать метры, число непримиримых противников проектов снизится.
6. Открытые данные и независимая экспертиза. В спорных вопросах часто не хватает доверия к экспертизам– жители сомневаются в заключениях, оплаченных застройщиком. Решение – сделать экспертизы более публичными и, по возможности, независимыми. Региону стоит создать публичный реестр экспертиз по значимым стройкам: выкладывать в открытый доступ основные выводы экологической, историко-культурной, технической экспертиз. Также целесообразно привлекать сторонних специалистов (например, университетских ученых, экспертов РАН) к оценке потенциального ущерба. Когда, к примеру, утверждались изменения в ПЗЗ по левобережью, мнения ученых о вреде пойменной застройки были проигнорированы . На будущее надо встроить такой механизм: нет подписи эколога – нет решения. Если бы в 2018 году депутаты услышали специалистов, не было бы и многолетнего конфликта за левый берег. Поэтому – экспертный фильтр: особенно по объектам, затрагивающим историческую среду или природу, должен быть обязательный положительный вывод авторитетной независимой структуры. А все материалы (где планируется вырубка, какой будет теневой конус от здания и т.д.) должны предъявляться общественности. Прозрачность данных обезоруживает слухи и домыслы. Например, зная точно, сколько деревьев уберут и сколько высадят взамен, люди могут смириться, если баланс положительный и видят план компенсации. Если же данных нет, зарождаются самые худшие предположения. Таким образом, открытость и опора на науку снизят градус недоверия.
В заключение, градостроительные конфликты – неизбежное явление для развивающегося города, где сталкиваются интересы развития, общества и среды. Но правильная политика способна перевести конфликты в конструктивное русло. Ростову-на-Дону, учитывая опыт последних лет, важно продолжать курс на более сбалансированное, «слышащее» городское управление: вовремя обновлять правила, честно разговаривать с жителями, привлекать экспертизу и не бояться корректировать планы ради общего блага. Тогда и социальная напряжённость будет снижаться, уступая место партнерству горожан, власти и бизнеса в деле создания комфортной городской среды.
Заказать исследование вашей аудитории и рынка
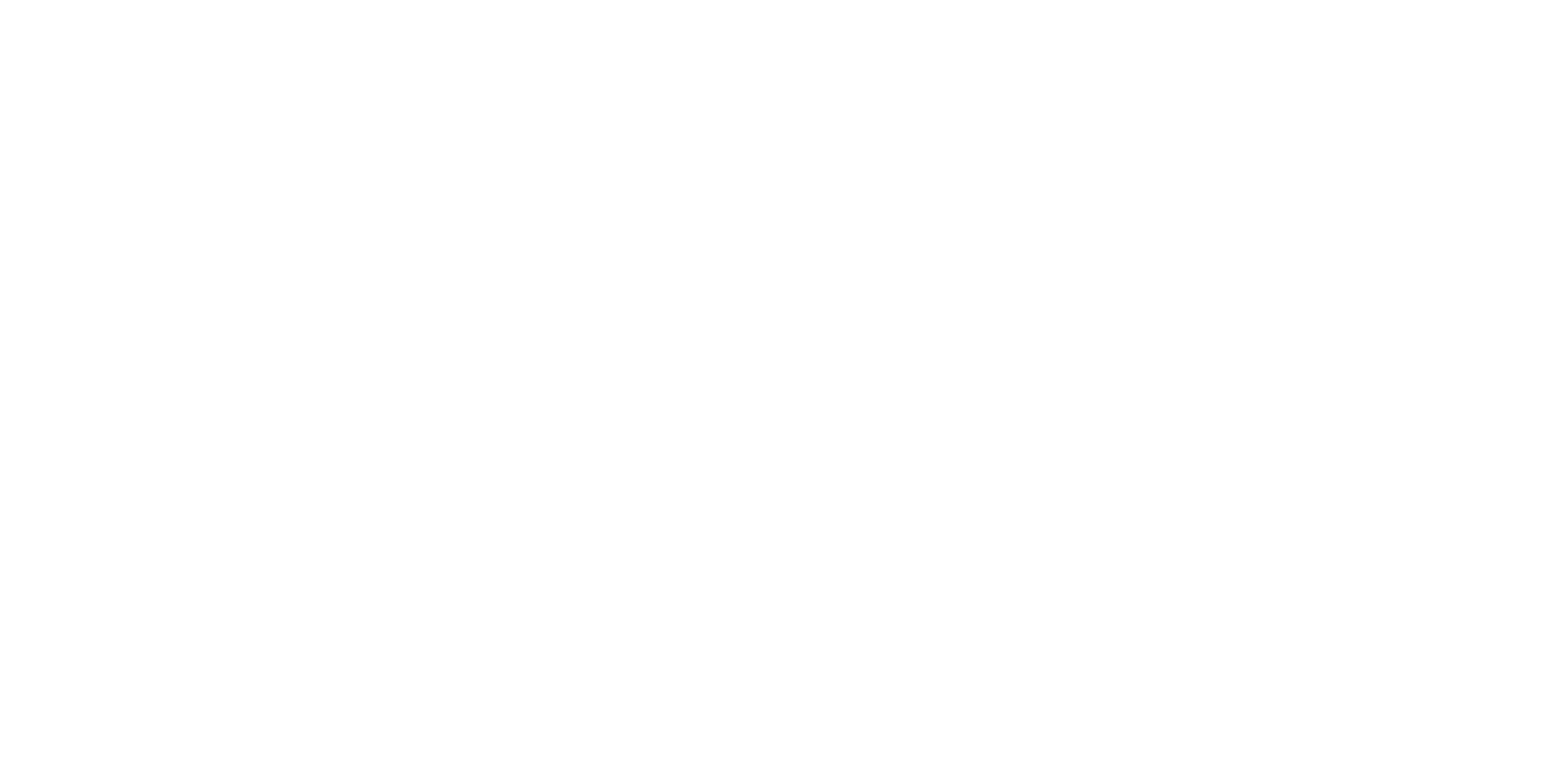
Здесь будет форма 😎
а пока просто всплывающее окно
Всё начинается с исследования!
